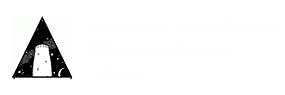События
Эллинская религія страдающаго бога. Введенiе. Глава I
Эллинская религія страдающаго бога
Эти очерки безъ существенныхъ перемѣнъ воспроизводятъ курсъ лекцій, читанный весною 1903 года въ Русской Высшей Школѣ Общественныхъ Наукъ въ Парижѣ. Согласно желанію редакціи, авторъ рѣшается напечатать ихъ въ этой формѣ, далекой отъ научной и литературной законченности, ему мечтавшейся. Изучая предметъ въ связи съ современными исканіями религіозно-философской мысли, авторъ намѣчаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, — предваряя ихъ окончательное обоснованіе, — результаты предпринятаго имъ спеціальнаго изслѣдованія религіи Діониса.
ВВЕДЕНІЕ.
Что разумѣть подъ греческой религіей страдающаго бога? И означался ли обликъ бога страдающаго и умирающаго среди сонма тѣхъ прекрасныхъ боговъ, которыхъ мы привыкли воображать безсмертными и изобыточно-блаженными въ золотомъ облакѣ счастливаго эллинскаго язычества?
Представленіе о существахъ сверхчеловѣческихъ, претерпѣвающихъ муки и смерть, — часто встрѣчаемое представленіе въ миѳологіи древнихъ. Болѣе того: оно — душа трагическаго миѳа; а миѳъ греческій, издавна тяготѣвшій къ трагическому, сталъ таковымъ почти всецѣло, почти во всемъ своемъ составѣ, подъ вліяніемъ Діонисовой религіи и Діонисова искусства —
трагедіи. Ужасъ смерти и искаженная личина страданія — трагическая маска — были приняты греками въ идеальный міръ ихъ красоты, были возведены ими въ перлъ созданія, прощены, очищены творчествомъ; они обусловили собой ихъ высшее въ религіозномъ и художественномъ творчествѣ.
„Полубоги“, „богоравные“ смертные, „герои“ — не одни являются въ религіозно-поэтическомъ созерцаніи древнихъ жертвами рока. Страждутъ демоны и боги, какъ Кроносъ или Уранъ, какъ многострадальная Матерь-Деметра, какъ самъ свѣтлый Аполлонъ, влекущій цѣпи плѣна и подневольной службы. Умираютъ Титаны и нимфы, Адонисъ и Кора, Кроносъ и самъ Кронидъ, по нѣкоторымъ мѣстнымъ и темнымъ преданіямъ, смыслъ которыхъ самимъ древнимъ оставался сомнительнымъ и загадочнымъ. Въ эпоху христіанскихъ апологетовъ и умирающаго язычества, мистика мѣстныхъ храмовыхъ преданій, въ устахъ.путеводителей по святымъ мѣстамъ, установила, какъ фактъ священной легенды, существованіе гробницъ боговъ, предполагавшихся умершими. Не только гробъ Зевса показывался на Критѣ и гробъ Діониса въ Дельфахъ — культъ этихъ святынь восходитъ къ болѣе или менѣе глубокой древности, — но также гробъ Ареса во Ѳракіи, Афродиты на Кипрѣ, Гермеса въ Ливійскомъ Гермуполисѣ, Асклепія въ Эпидавръ. Мы слышимъ, далѣе, о гробахъ Кроноса, Плутона, Посейдона, Геліоса и Селены, о гробѣ Діониса въ Ѳивахъ. „Мелампъ, — говорить Діодоръ, — занесъ изъ Египта очищенія, приписываемыя Діонису, и преданіе о богоборствѣ Титановъ, и всю вообще священную легенду о страстяхъ боговъ“. Замѣчательно въ этомъ свидѣтельствѣ не извѣстіе о миѳическомъ Мелампѣ (онъ, по совокупности миѳологическихъ данныхъ, — только ипостась самого Діониса) и не упоминаніе о гіератическомъ Египтѣ, представлявшемся уже Геродоту таинственною колыбелью діонисическаго служенія: любопытно указаніе на существованіе свода миѳовъ о „страстяхъ боговъ“ и ихъ выведеніе изъ діонисической идеи.
Первыхъ христіанскихъ писателей странно поражало и соблазняло это обиліе преданій о страданіяхъ, бѣгствахъ, безуміяхъ, смертяхъ божествъ; они пользовались этими кажущимися аномаліями религіознаго сознанія, чтобы сдѣлать очевиднымъ заблужденіе язычества. Впрочемъ, въ этомъ случаѣ они опирались на издавна сказавшуюся рознь духа греческаго и римскаго; ихъ точка зрѣнія была искони намѣчена глухимъ протестомъ италійскаго религіознаго чувства противъ этой — правда, существенной — стороны эллинской религіи, всѣ остальныя формы которой были послѣдовательно принимаемы и усвояемы италійской расой, какъ нѣчто родное и издревле общее. Разсудочные и устойчивые въ вихрѣ аффекта римляне не умѣли пріобщиться греческимъ экстазамъ. Римляне, въ чьихъ глазахъ божество было только неподвижнымъ, въ себѣ неизмѣннымъ понятіемъ, одареннымъ логически присущею ему дѣйственною силою, — чей антропоморфизмъ никогда не шелъ, въ истинно-народномъ представленіи, дальше олицетворенія отвлеченной идеи, — не могли принять бога съ обликомъ страдающаго человѣка. Оргіазмъ былъ имъ глубоко непріязненъ, и борьба противъ вакханалій въ Римѣ начала II вѣка до Р. X. объясняется, конечно, прежде всего реакціей національнаго характера противъ эллинскаго вліянія, хотя и всемогущаго, хотя и одержавшаго уже всѣ побѣды.
Вотъ что говорить Діонисій Галикарнасскій, писатель Августовой эпохи, олатинившійся грекъ, апологетъ Рима, поборникъ его порядковъ и его духа, вь замѣчательномъ противопоставленіи греческаго и римскаго культа: „У римлянъ нѣтъ рѣчи объ Уранѣ, оскопляемомъ своими сыновьями, или о Кроносѣ, уничтожающемъ свое потомство. (Это, замѣтимъ, уже почти языкъ позднѣйшихъ христіанскихъ полемистовъ). Нѣтъ рѣчи о Зевсѣ, упраздняющемъ власть Кроноса и заключающемъ его въ темницу Тартара, его — своего отца. Нѣтъ рѣчи о битвахъ и ранахъ боговъ, объ ихъ узахъ и рабской службѣ у людей. Нѣтъ у нихъ печальныхъ
торжествъ, справляемыхъ въ траурныхъ одеждахъ, съ плачемъ и рыданіями женщинъ, въ память боговъ гибнущихъ, каковы у эллиновъ поминки по похищенной Персефонѣ и празднованія страстей Діонисовыхъ и другія имъ подобныя. У римлянъ, даже въ наше время растлѣнія нравовъ, не увидишь боговдохновенныхъ изступленій, экстаза корибантовъ и скопищъ вакхическихъ, и мистическихъ очищеній, и всенощныхъ служеній, совершаемыхъ мужчинами совмѣстно съ женщинами. (Вспомнимъ, что и на христіанъ римляне взводили то же обвиненіе). Нѣтъ вообще ничего подобнаго этимъ чудовищнымъ обычаямъ; но все, что до боговъ прилежитъ, совершается н толкуется съ тѣмъ благочиніемъ, какого не встрѣтишь ни у эллиновъ, ни у варваровъ“.
Уже изъ приведеннаго угадывается, что именно культъ Діониса былъ корнемъ греческаго оргіазма, который, многозначительнымъ образомъ, выставляется внутренне связаннымъ со страстными служеніями, какъ ихъ исключительная особенность и естественное выраженіе ихъ религіозной идеи. Въ самомъ дѣлѣ, богомъ „страстей“ и „печальныхъ празднествъ“ является по преимуществу Діонисъ. Но это представленіе не было ли позднѣйшей и второстепенной чертой въ древнемъ обликѣ бога упоеній и избытка, плясокъ и масокъ, вдохновенных восторговъ и чувственнаго самозабвенія? Не былъ ли страждущій, гибнущій, воскресающій Діонисъ богом отдѣльныхъ сектъ, какъ секта орфическая, отдѣльных мистических культовъ, или же отдѣльныхъ мѣстностей, какъ Фригія и прилегающія земли Малой Азіи, или отдѣльныхъ народностей, какъ загадочная народность ѳракійская, научившая эллиновъ (какъ доселѣ подозрѣваютъ изслѣдователи) своей варварской вѣрѣ, заразившая ихъ своимъ мрачнымъ неистовствомъ, преображеннымъ свѣтлою силой эллинскаго генія въ жизнерадостный, жизнью упоенный, жизнь благословляющій и славящій вакхизмъ? Не была ли идея страданія въ вакхической религіи явленіемъ
сравнительно поздней поры и уже симптомомъ упадка? Или таковы были греки съ своего историческаго дѣтства? Или изначала они не только славили жизнь? Или они боготворили страданіе? Или въ своемъ первобытномъ синтезѣ жизни они уже находили страданіе? Можно ли говорить о религіи страдающаго бога, какъ о фактѣ обще-греческомъ и изначально-греческомъ? Можно ли говорить о религіи Діониса, какъ о религіи страдающаго бога? Можно ли говорить, въ дальнѣйшей связи, о трагедіи, какъ объ искусствѣ страдающаго бога, о художественномъ завершеніи религіозной идеи божественнаго страданія?
Не всѣ изслѣдователи согласны отвѣтить на эти вопросы утвердительно. Такъ, одинъ изъ знаменитѣйшихъ современныхъ эллинистовъ, Виламовицъ-Меллендорффъ, говоритъ, по поводу трагедіи, которую отказывается выводить изъ діонисическихъ состояній духа и изъ культа бога страдающаго, — что именно страданія, прежде всего, вовсе нѣтъ въ первоначальной религіи Діониса („Leiden zunächst giebt es nicht“. Herakles I, 1. Aufl., S. 59). А потому и трагедія внутренне чужда этой религіи: только на почвѣ Аттики она случайно развилась въ связи съ обычаями діонисическихъ празднествъ. Новые ученые, видящіе начало трагедіи въ подражательномъ воспроизведеніи страданій Діонисовыхъ, судятъ такъ подъ впечатлѣніемъ аналогіи христіанскихъ мистерій, изображавшихъ рождество и страсти Христовы. Они — по Виламовицу — никакъ не могутъ привыкнуть къ мысли, что возможна религія безъ священной исторіи и священной книги. Дальнѣйшее изложеніе должно оправдать наше прямо противоположное этому приговору мнѣніе. Но уже здѣсь позволительно замѣтить, что впечатлѣніе аналогіи между языческимъ и христіанскимъ священнымъ дѣйствомъ — не непремѣнно должно быть обманчивымъ; быть можетъ, оно напоминаетъ о дѣйствительномъ родствѣ явленій, о скрытой связи нѣкотораго историческаго преемства. И не обманывается ли самъ Виламовицъ перенесеніемъ
на древность особенностей историческаго христіанства, когда говоритъ о необходимости священной исторіи для концепціи и культа бога страдающаго? Задача этихъ очерковъ — показать, что миѳъ о страдающемъ богѣ, хотя и восходитъ до глубокой древности, однако моложе общаго представленія о богѣ страдающемъ, а самый этотъ образъ — моложе отвлеченной идеи священнаго и освящающаго страданія, такъ что богъ древнѣе своей исторіи, а жертва древнѣе бога; но и въ жертвѣ, и въ богѣ, и въ миѳѣ о богѣ одно сохранилось нетронутымъ и изначальнымъ: обоготвореніе страданія и смерти жертвенной, — религіозный зародышъ позднѣйшей трагедіи, восходящей своими начатками до темныхъ временъ обрядоваго человѣкоубіенія и человѣкопожиранія. Задача этихъ очерковъ — выяснить, поскольку Діонисъ былъ изначально и преимущественно богомъ страданія, богомъ „страстей“ (πάϑη), какъ означаетъ это божественное мученичество греческій языкъ — выраженіемъ, изъ Діонисова культа перешедшимъ въ культъ христіанскій.
„Пассіи“ Діониса — вмѣстѣ исходная и отличительная черта его культа, жизненный нервъ его религіи, — въ той же степени, какъ „пассіи“ христіанскаго Бога — душа христіанства. Діонисіазмъ — религія страстная среди греческихъ взаимно совмѣщающихся и переплетающихся религій, и при томъ — религія побѣдоносная, подчинившая себѣ остальныя, воспреобладавшая въ греческомъ религіозномъ сознаніи, наложившая глубокую печать на всѣ явленія греческаго генія, религія Греціи по преимуществу, синтезъ и послѣднее слово греческой культуры, темный и сложный феноменъ вселенскаго значенія, огромная загадка и задача, одинаково важная для уразумѣнія нашего прошлаго (ибо греческое прошлое — наше общее прошлое) и открывающихся передъ нами новыхъ и невѣдомыхъ путей духа.
И здѣсь мы опять касаемся основного недоумѣнія. Какъ? Греки и — идея мірового страданія? Или, какъ восклицаетъ Ницше: „Какъ? Греки и — пессимизмъ? Раса
людей, наилучше удавшаяся изъ доселѣ жившаго человѣчества, возбуждавшая въ насъ наибольшую зависть, болѣе всего соблазнявшая насъ къ жизни, — она-то и нуждалась въ трагедіи? Что значитъ, именно у грековъ цвѣтущей поры, поры наибольшей силы и наибольшаго мужества, трагическій миѳъ? и огромная проблема діонисическаго начала? что значитъ родившаяся изъ этого начала трагедія?“..
Остроумный и легкомысленный Марціалъ становится однажды неожиданно глубокимъ, говоря о Промеѳеѣ, какъ художникѣ-творцѣ человѣческаго рода:
Родъ человѣческій достоинъ былъ создать“.
Народъ эллиновъ поистинѣ достоинъ считаться образомъ человѣчества и какъ бы народомъ всечеловѣковъ. Какъ, ихъ Промеѳей, они умѣли страдать. Они проникли глубочайшую природу и таинственный смыслъ страданія, какъ индусы; но иначе, чѣмъ безвольно созерцательные индусы, разрѣшили открывшуюся имъ антиномію. Двойственный исходъ нашелъ ихъ душевный разладъ: они развили героическій идеалъ, и они обоготворили страданіе. Ихъ прозрѣніе страдающаго Всебога было восторгомъ мистическаго пріобщенія его страстямъ. Было дѣло ихъ религіознаго генія. Недаромъ апостолъ Павелъ говорилъ аѳинянамъ: „По всему вижу я, что вы какъ бы особенно набожны“. Какой-то жертвенникъ „невѣдомому богу“, посвященный забытому герою или безыменному демону или тайному генію мѣста, послужилъ для апостола символомъ эллинскаго богоисканія. Аѳиняне охотно приняли это истолкованіе: оно отвѣчало — еще болѣе чѣмъ духу времени — ихъ исконной сущности. Часто наши эллинисты трезвѣе эллиновъ: углубленіе начатковъ религіознаго синтеза было душой ихъ миѳотворенія. Такимъ же „невѣдомымъ богомъ“ былъ для нихъ, въ постоянномъ расширеніи и преображеніи его идеи, и богъ страдающій. Но мы ищемъ осмыслить ихъ
прозрѣніе исторически. Оглядимся же въ странномъ мірѣ, раскрывающемся передъ нами при волшебномъ словѣ „Діонисъ“. Представимъ себѣ, прежде всего, діонисическую жизнь въ историческихъ формахъ культа и культового быта.
ГЛАВА I.
Весеннему празднику Христова Воскресенія въ языческой Греціи соотвѣтствовали по времени празднества Діониса, оживавшаго для міра живыхъ, возвращавшагося, съ воскресшей отъ зимняго сна растительной силой земли, изъ своего тайнаго гроба, изъ сѣни смертной... Но начнемъ съ періода страстного служенія, съ оргій, посвященныхъ гробу и сѣни смертной.
И, прежде всего, — что такое оргіи? Едва-ли нужно говорить о томъ, что въ современномъ его употребленіи смыслъ слова глубоко извращенъ. Оргіями назывались службы Діонису и Деметрѣ; онѣ имѣли мистическій характеръ, но онъ не означенъ въ словѣ. Научное опредѣленіе термина даетъ Виламовицъ. Оргіи — отличительная особенность Діонисовой религіи и изъ нея перешли въ религію Элевсина. Между тѣмъ какъ въ другихъ греческихъ культурахъ община остается пассивной, — жрецъ приноситъ жертву, а община безмолвствуетъ или, сообразно опредѣленному чину, произноситъ краткое молитвословіе по приглашенію жреца, — въ одномъ діонисическомъ богослуженіи всѣ поклонники активно священнодѣйствуютъ. Такое священнодѣйствіе цѣлой общины называлось оргіями, а его участники — оргеонами, — слово, и въ своимъ расширенномъ значеніи сохранившее основной смыслъ равноправнаго участія въ общемъ культѣ.
Разъ въ двухлѣтіе, въ пору зимняго солнцеворота, сокровенныя жертвы приносились умершему богу его дельфійскими жрецами во святомъ святыхъ пиѳійскаго Аполлонова храма, надъ ступенью или порогомъ у
пророческаго треножника, которые молва называла гробовою плитой надъ могилой Діониса. Всю зиму въ Дельфахъ совершалось мистическое служеніе, посвященное „сопрестольнику“ Феба, тому, кто былъ изображенъ, окруженный огненосицами-мэнадами въ часъ заходящаго солнца, надъ западнымъ портикомъ священнѣйшаго храма Эллады. Всю зиму звучалъ въ Дельфахъ Діонисовъ диѳирамбъ, смѣнявшій съ конца осени свѣтлый пэанъ Аполлона. Съ первымъ ростомъ дня, въ эпоху упомянутыхъ сокровенныхъ жертвоприношеній, діонисическія женщины, Ѳіады, собирались изъ Дельфъ и изъ Аттики для ночныхъ радѣній на снѣжныхъ стремнинахъ Парнасса — двуглавой горы, подѣленной между Аполлономъ и Діонисомъ, — блуждали съ факелами долгія зимнія ночи, носили плетеныя колыбели и „будили Діониса-Ликнита“ — бога въ его колыбели — взываніями и кликами.
Тѣ же оргіи совершались по ущельямъ дубравнаго Киѳерона, горы Діонисовой, на полпути аттическихъ Ѳіадъ изъ Аѳинъ въ Дельфы; и онѣ же засвидѣтельствованы упоминаніями авторовъ и надписями по другимъ мѣстамъ Греціи, въ подтвержденіе словъ Діодора (4, 3): „Однажды въ двухлѣтіе во многихъ городахъ греческихъ собираются вакханаліи женщинъ, н законъ требуетъ, чтобы дѣвушки брали тирсы и принимали участіе въ энтузіазмѣ радѣній, а женщины, раздѣлившись на отдѣльные сонмы, приносили жертвы богу и приходили въ священное изступленіе“. Общность этого свидѣтельства не оставляетъ сомнѣнія въ обычности тѣхъ массовыхъ исходовъ женщинъ въ лѣса и горы, для священныхъ радѣній и очищеній, какіе изображаетъ миѳъ (напримѣръ, въ „Вакханкахъ“ Эврипида). И этому заключенію о широкомъ участіи женскаго населенія греческихъ общинъ въ зимнихь оргіяхъ Діониса, не противорѣчить тотъ факть, что по отдѣльнымъ мѣстамъ, въ Дельфахъ и въ Атгикѣ, въ Спартѣ, въ Элидѣ, въ Орхоменѣ, мы встрѣчаемь организаціи діонисическихъ женщинъ — здѣсь уже прямо жрицъ, — какова жреческая коллегія „одиннадцати неистовыхъ“ въ Спартѣ или
коллегія „шестнадцати мэнадъ“ въ Элидѣ. Слова Діодора о раздѣленіи на отдѣльные „сонмы“, въ связи съ описаніемъ Эврипида, именно такъ рисующаго намъ исходъ ѳиванскихъ женщинъ въ горы подъ предводительствомъ трехъ дочерей Кадмовыхъ, воздвигающихъ Діонису три отдѣльные алтаря, — даютъ ключъ къ соглашенію, повидимому, противорѣчивыхъ извѣстій о коллегіяхъ мэнадъ съ одной стороны, объ общенародномъ празднованіи женскихъ вакханалій — съ другой. Наконецъ, сомнѣнія, возбужденныя нѣкоторыми учеными о согласимости религіознаго обычая съ обиходомъ греческой жизни, съ понятіями морали и соціальными условіями, тѣсно ограничивавшими для греческой женщины и въ особенности дѣвушки область приличнаго и дозволеннаго, — кажутся намъ лишенными основанія, именно въ виду всемогущества религіозной идеи и сакральнаго императива въ понятіяхъ древнихъ. Необходимымъ послѣдствіемъ этого культового принужденія было уваженіе, окружавшее діонисическую женщину (есть разсказъ, что городскіе стражи охраняли станъ усталыхъ паломницъ Діониса, уснувшихъ на площади города, лежавшаго на ихъ пути въ горы), — уваженіе, навсегда сохранившее въ греческой душѣ наслѣдіе мистическаго страха и благоговѣнія, съ которымъ первобытный человѣкъ смотрѣлъ на вдохновенную внутреннимъ присутствіемъ бога, имъ одержимую, пророчествующую женщину, столь близкую нашему воображенію по типамъ Пиѳіи, Сивиллы, Кассандры. Съ этимъ религіознымъ почитаніемъ роднился страхъ проникнуть въ тайну радѣній, святотатственно наблюсти мистическія дѣйствія, страхъ, исключавшій всякое участіе въ нихъ и самую близость непосвященныхъ: вспомнимъ судьбу дерзновеннаго Пенѳея въ Эврипидовой трагедіи.
Къ зимнимъ тріэтеріямъ, о которыхъ идетъ рѣчь, — празднествамъ, совершавшимся разъ въ два года („въ началѣ третьяго“, по стародавнему счету), — относятся слова орфическаго ритуала: „Я призываю Вакха, подземнаго Діониса, ежегодно пробуждающагося съ
прекрасноволосыми нимфами; въ священномъ жилищѣ Персефоны почіетъ онъ въ вакхическій годъ непорочныхъ тріэтерій“; — и стихъ Вергилія (Эн. 4, 301): „Ѳіада стремится въ изступленіи, возбужденная звуками приведенныхъ въ движеніи священныхъ мусикійскихъ орудій; ее толкаютъ оргіи тріэтерій и вакхическіе клики, когда оглашаются жалобными призывами ночныя дебри Киѳерона“. Передъ нами возникаетъ типъ мэнады, переданный въ безчисленныхъ изображеніяхъ античною скульптурой и живописью на вазахъ — и глубоко отличный отъ типа веселой, пьяной вакханки александрійскаго и римскаго времени, вакханки помпейскихъ фресокъ и новаго искусства. Этотъ религіозный типъ достигъ своего высшаго художественнаго выраженія въ статуѣ Скопаса, представлявшей мэнаду въ состояніи экстаза, въ длинной развѣвающейся одеждѣ, съ козленкомъ въ рукахъ, разорваннымъ въ религіозномъ изступленіи: голова закинута назадъ, волосы распущены по вѣтру, она стремится въ вихрѣ своего энтузіазма къ священнымъ оргіямъ Киѳерона. Выраженіе лица этой статуи, по словамъ художественнаго критика позднѣйшей эпохи, дѣлало зрителя нѣмымъ: „съ такою силой сказывалось въ немъ упоеніе ея охваченной восторгомъ души, и искусство ваятеля выдавало вь чертахъ въ несказанномъ сліяніи всѣ признаки души, язвимой божественнымъ безуміемъ“.
И вотъ явленіе женскаго сонма (ѳіаса) Діонисова въ описаніи Катулла (64): „Легкія, онѣ бѣгали въ безумствѣ изступленія и кричали эвоэ, загибая головы. Однѣ потрясали тирсами, острія которыхъ были скрыты (листвой или конусообразными шишками пиніи); другія бросали члены разорваннаго тельца; иныя перевивали станъ змѣями; иныя носили мистическія корзины, совершая таинственный обрядъ, въ который напрасно хотятъ проникнуть непосвященные; иныя ударяли въ тимпаны стройными руками или изъ округлой мѣди извлекали тонкіе звоны, — тогда какъ въ рукахъ
другихъ рога выдыхали рѣзкіе ревы, и варварская флейта визжала ужасную пѣснь“.
Объ ужасномъ дѣйствіи оргіастической музыки, часто сопровождавшей вихревое круженіе пляшущихъ, можно судить по отрывку потерянной Эсхиловой трагедіи „Эдоны“, гдѣ воспроизводились вакхическія радѣнія ѳракійцевъ: „Одинъ держитъ въ рукахъ буравомъ выточенныя флейты, и его пальцы исторгаютъ изъ нихъ возбуждающую мелодію, ведущую за собою безуміе; другой ударяетъ вогнутую мѣдь въ мѣдь. Громкими кликами звучитъ пѣснь, и ей вторятъ невѣдомо откуда ревы, подражающіе ревамъ быка, наводящіе ужасъ; и тяжкіе звуки тимпана раскатываются, какъ подземные громы“. Иноземные оргіастическіе культы впервые открыли грекамъ таинства оркестровой симфоніи.
Таковы были зимнія празднества Діониса, — обыкновенно ночныя, во славу Діониса-Никтелія, котораго Софоклъ называетъ „водителемъ хоровъ огнедышащихъ звѣздъ (факеловъ), начальникомъ ночныхъ кликовъ“; празднества, носившія разныя имена и различавшіяся многими особенностями мѣстныхъ культовъ, — большею частію тріэтерическія, т. е. справляемыя разъ въ двухлѣтіе, — оглашавшія смятеніемъ своихъ кликовъ и воплей — то безумнаго отчаянія, то изступленнаго ликованія — Парнассъ и Киѳеронъ, Тмолъ и Тайгетъ, — засвидѣтельствованныя, кромѣ Ѳессаліи и Македоніи, Ѳракіи и Малой Азіи, въ области собственной Греціи, особенно въ Фокидѣ и Беотіи (гдѣ горы Парнассъ и Киѳеронъ были мѣстами непрерывныхъ вакхическихъ сборищъ, учреждаемыхъ одновременно или послѣдовательно въ теченіе зимы населеніями окружныхъ территорій), далѣе — въ Брауронѣ и на Гиметѣ — въ Аттикѣ, въ Лафистіонѣ и Орхоменѣ западной Беотіи, въ Коринѳѣ, Мегарѣ, Сикіонѣ, Аргосѣ и дальше, по Ахаіи, Элидѣ, Аркадіи, Мессеніи, Лаконіи, на островахъ Хіосѣ, Лесбосѣ, Тенедосѣ, Критѣ и другихъ.
Отличительною чертой этихъ зимнихъ служеній
были экстатическіе скорбь и плачъ о богѣ страдающемъ, преслѣдуемомъ, или исчезнувшемъ и безслѣдно потерянномъ, или растерзанномъ, убитомъ и погребенномъ, — разнообразныя и вмѣстѣ одинаковыя по существу представленія, которыя Плутархъ сводитъ въ замѣчательномъ сопоставленіи аполлиническаго и діонисическаго началъ, какими они жили въ религіозно-философскомъ сознаніи умозрителя и мистика конца I вѣка нашей эры.
„Богословы, — говоритъ онъ, — въ стихахъ и прозѣ учатъ, что Богъ, будучи нетлѣннымъ и вѣчнымъ, но въ силу нѣкоего рока и логоса подверженный перемѣнамъ и преобращеніямъ въ себѣ самомъ, періодически то въ одинъ огонь воспламеняетъ природу, снимая всѣ различія вещей, то становится многообразнымъ въ разности формъ и страстей и силъ, каковое состояніе онъ испытываетъ и нынѣ и въ какомъ состояніи зовется Міръ (Космосъ), наименованіемъ наиболѣе извѣстнымъ. Тайно же отъ большинства людей мудрые именуютъ его преобращеніе въ огонь Аполлономъ, выражая этимъ именемъ идею единства, или Фебомъ, означая идею чистоты и непорочности. Въ разъединеніи же божества (мы употребили бы здѣсь воскрешенный Шопенгауэромъ схоластическій терминъ: principium individuationis) и въ его раздѣленіи и переходахъ въ воздухъ и воду, и землю, и свѣтила, и въ смѣну рожденій животныхъ и растительныхъ — они усматриваютъ страданіе и пресуществленіе, растерзаніе и расчлененіе Бога; и взятаго въ этомъ состояніи страды и страстей называютъ его Діонисомъ и Загревсомъ, и Никтеліемъ и Исодэтомъ (т. е. равно распредѣляющимъ дары, — эвфемистическій эпитетъ подземнаго бога смерти, общаго гостепріимца), и повѣствуютъ о его гибеляхъ и исчезновеніяхъ, умираніяхъ и возрожденіяхъ загадочными миѳами и символами, изображающими его превращенія, и поютъ ему диѳирамбическія пѣсни, избыточествующія паѳосомъ и перемѣнами настроеній и имѣющія въ себѣ нѣчто блуждающее и необузданное,
согласно слову Эсхила: Диѳирамбъ воспоемъ, смѣшанный съ криками, родной Діонису, — тогда какъ Аполлону возносятъ пэанъ, пѣснь музы согласной, устроенной и исполненной мѣры. И Аполлона изображаютъ въ живописи и ваяніи не старѣющимся и юнымъ, а Діониса многобразнымъ и разноликимъ. И между тѣмъ какъ вліянію Аполлона приписываютъ постоянство и строй и прилежное рвеніе, Діонису посвящаютъ нестройныя и ненормальныя состоянія („аномаліи“) души, проявляющіяся рѣзвостью и дерзостью смѣха и необузданностью, и одушевленіемъ, и безуміемъ, и взываютъ къ нему, какъ къ Эвію — богу кликовъ, приводящему въ экстазъ женщинъ, прославленному служеніемъ изступленныхъ, — мѣтко означая всѣмь этимъ особенности каждаго изъ двухъ божествъ“.
Это свидѣтельство любопытно не своей платонической космологіей и метафизикой, но психологическимъ анализомъ двухъ типовъ эмоцій, представлявшихъ какъ бы два полюса греческой души. Единеніе, мѣра, строй, порядокъ, равновѣсіе, покой, форма („je hais le mouvement qui déplace les lignes“ — говоритъ Красота у Бодлэра) противополагаются, какъ идея одного изъ этихъ типовъ, началу безмѣрному, подвижному, неустойчивому въ своихъ текучихъ формахъ, безпредѣльному, страдающему отъ непрерывнаго разлученія съ собою самимъ. Вѣчная юность противополагается вѣчной смѣнѣ возникновенія и уничтоженія; цѣлительная и осчастливливающая тишина и полнота солнечная — озаренной заревомъ блуждающихъ факеловъ экстатической ночи; силы души сосредоточивающія, центростремительныя — силамъ центробѣжнымъ, разбивающимъ здоровую цѣлостность я, уничтожающимъ индивидуальное сознаніе. Ближайшимъ же образомъ и въ данной связи свидѣтельство Плутарха, столь поучительное какъ образчикъ древняго синтеза аполлиническихъ и діонисичеческихъ состояній духа, любопытно намъ характеристикой діонисическаго культа: указаніемъ, какъ на отличительную и преобладающую его особенность, на
элементъ оргіазма, пассій, исканій, плача надъ богомъ страдающимъ и умершимъ.
Въ то же самое время, однако, справлялись и иного рода вакхическія празднованія. Это были декабрьскія „сельскія Діонисіи“, простодушные и пьяные праздники деревенскихъ виноградарей, слѣдующее по календарю торжество Вакха за осеннимъ — или, скорѣе, лѣтнимъ — сборомъ винограда. Живую картину разгульныхъ и непристойныхъ сельскихъ Діонисій съ ихъ полусвященными, полускоморошескими процессіями даетъ Аристофанъ въ „Ахарнянахъ“. Но простѣйшій и древнѣйшій типъ ихъ рисуетъ Плутархъ: устраивалась веселая и не длинная процессія; впереди несли амфору вина, за ней виноградную лозу; слѣдовала коза, ведомая на жертву; за козой — корзина съ фигами; и ходъ завершался торжественно воздвигнутымъ символомъ рождающей силы. Замѣчательно, впрочемъ, что въ миѳахъ, связанныхъ съ этими днями сельскихъ гуляній, продолжаетъ звучать та же трагическая нота страданія и смерти. Таковъ аттическій миөъ объ Икаріи и его дочери Эригонѣ.
Селянинъ Икарій оказываетъ гостепріимство пришедшему въ Аттику неведомымъ чужакомъ — Діонису. Пришлецъ возращаетъ близъ дома Икаріева виноградную лозу. Наученный дару бога, Икарій распространяетъ по окрестной странѣ искусство винодѣлія и употребленіе божественнаго напитка. Грубые сельскіе жители-земледѣльцы и пастухи, упившись виномъ, впадаютъ въ буйство; мнятъ, что выпили свою погибель; умерщвляютъ Икарія. Въ лицѣ апостола Діонисова такъ сказывается самъ Діонисъ, жертва дикихъ Титановъ. Убійцы бросаютъ Икарія въ безводный колодезь, или погребаютъ подъ деревомъ: діонисическія черты, повторяющіяся въ рядѣ миѳовъ. Эригона (быть можетъ, болѣе позднее осложненіе миѳа) ищетъ отца повсюду, дѣлается „блуждающей“: уже древніе отмѣчали сходство съ Изидой, ищущей тѣла Озирисова. Обрѣтя его могилу, она лишаетъ себя жизни, повѣсившись на деревѣ: обычная черта въ характеристикѣ женскаго
діонисическаго безумія. Разгнѣванный Діонисъ насылаетъ на страну болѣзнь и на женское населеніе Аттики эпидемію самоубійства: женщины вѣшаются на деревьяхь. Оракулъ предписываетъ найти тѣло Икарія и принести искупительныя жертвы. Но тѣло не находится: быть можетъ, улика утраченной черты миѳа о расчлененіи тѣла. Однако, болѣзнь прекращается по учрежденіи обряда „эоры“. На вѣтви деревьевъ вѣшаютъ гирлянды съ качающимися человѣческими фигурами и масками: характеристическій пережитокъ человѣческой жертвы. Память Эригоны сохраняется въ обычаѣ „эоры“, память Икарія — въ обычаѣ „асколіазма“ — состязанія въ пляскѣ на винныхъ мѣхахъ, скользко намазанныхъ оливковымъ масломъ: обрядовая потѣха давала поводъ къ неудержимому веселью гуляющихъ, сценамъ народного юмора комическимъ импровизаціямъ и послужила, по мнѣнію древнихъ, первымъ толчкомъ къ развитію аттической сцены.
Такъ происхожденіе зимняго сельскаго карнавала опять обращаетъ насъ къ страстному аспекту „разноликаго“ Діониса. Въ разобранномъ миѳѣ соединены существенныя черты его страстной легенды. Передъ нами и воспоминаніе о человѣческихъ жертвахъ, и женское эпидемическое изступленіе, и трагическія искания и самое убіеніе героя — ипостаси Діонисовой. Въ маскѣ Икарія умерщвляется самъ богъ супостатами, обезумѣвшими отъ его же дара, т. е. по представленію древняго человѣка, имъ же наполненными и одержимыми, движимыми его же силой, имъ же вдохновленными. До какой степени эти черты характеристичны, покажетъ анализъ другихъ діонисическихъ миѳовъ: всѣ повторяютъ ихъ, и всѣ слагаются, въ своемъ пестромъ и неисчерпаемомъ многообразіи, въ одинъ безконечный маскарадъ, гдѣ Діонисъ угадывается подъ вѣчно смѣняющимися личинами — вѣчно единый, благодѣтельный и страшный, божественно всемогущій и побѣдный и вмѣстѣ какъ бы идущій навстрѣчу имъ же разнузданнымъ губительнымъ силамъ и направляющій ихъ ударъ,
то ускользающій отъ ихъ нападенія, смѣшаннаго изъ любви и воли богоборствующей, то застигнутый, растерзанный ими въ безуміи и бѣшенствѣ, убитый, пожранный или погребенный, и снова божественно-неистребимый, воскресшій и возродившійся для новаго богоявленія, новой „эпифаніи“.
Чтобы исполнить обзоръ зимнихъ торжествъ и тризнъ Діонисовыхъ, остается назвать январскія Ленэи, празднества точила винограднаго, — дни плющевыхъ вѣнковъ, восторженнаго диѳирамба, грима и масокъ, процессій съ сатирами и силенами и древнѣйшихъ въ Аѳинахъ сценическихъ представленій. Но и эти празднованія соединялись, по нѣкоторымъ мѣстнымъ указаніямъ, съ культомъ смерти, съ жертвами подземнымъ богамъ, они же являлись вмѣстѣ древними божествами богатства и земного изобилія.
Весна возвѣщалась въ мѣсяцѣ Анѳестеріонѣ, „цвѣтущемъ“ (Діонисъ же былъ и Анѳей, цвѣтущій и цвѣточный богъ, богъ розы), — празднествомъ Анѳестерій, когда жена аѳинскаго архонта-басилевса вступала въ символическій бракъ съ воскресшимъ Діонисомъ, и четырнадцать матронъ города совершали тайныя жертвы богу въ Лимнахъ — „низинѣ болотистой“. Недавнія раскопки Дернфельда положили конецъ ученымъ спорамъ о мѣстоположеніи этого древнѣйшаго Діонисова святилища въ Аѳинахъ. Оно открыто въ ложбинѣ подъ западнымъ склономъ Акроноля и узнано, какъ Ленэонъ, по священному храмовому точилу.
Первый день праздника посвящался открытію бочекъ и благословенію новаго вина. Второй былъ днемъ угощенія гражданъ и состязанія въ питьѣ, днемъ вѣнковъ, сплетенныхъ изъ первыхъ весеннихъ цвѣтовъ, и увѣнчанія дѣтей. Въ этотъ же, второй, день Анѳестерій открывался единственный разъ въ году храмъ въ Лимнахъ и, при воспоминаніи о Персефонѣ, возвращающейся изъ Аида къ Деметрѣ-матери, совершали упомянутый мистическій бракъ подъ наблюденіемъ элевсинскаго іерокерикса — обычай, съ которымъ можно
сравнить символическій бракъ Аріадны и Діониса на Критѣ и Наксосѣ и обрученіе венеціанскаго дожа съ Адріатикой. Наконецъ, третій и послѣдній день Анѳестерій былъ посвященъ хтоническимъ культамъ, жертвоприношенію душамъ умершихъ и подземному Гермесу. Души собирались на угощеніе, имъ приготовленное, и потомъ изгонялись изъ сосѣдства живыхъ заклинаніемъ. Таково было первоначальное, впослѣдствіи полузабытое вѣрованіе. До насъ дошла любопытная формула изгнанія подземныхъ гостей: „къ дверямъ, Керы (не „карійцы-слуги“, какъ слово толковалось уже въ поздней древности)! Миновали Анѳестеріи!“
Такъ и въ весенней радости греки не забывали о смерти. Весна какъ бы говорила имъ: „глядите, смертные: я — цвѣту, я — Кора Персефона! Недолго быть мне съ вами, и вы не увидите меня, и снова увидите меня“. И то же говорилъ Діонисъ. Въ этомъ его глубочайшій паѳосъ. Весна была прозрачна для взора древнихъ: она была цвѣтущая Смерть. Нигдѣ, быть можетъ, не выказываются виднѣе хтоническіе корни діонисической вѣры. Смерть только обратная сторона жизни: это было сознано народной душой прежде, чѣмъ провозглашено мудрецами, прежде чѣмъ Гераклитъ Темный сталъ учить, что жизнь представляется смертью умершимъ, какъ смерть является смертью только живымъ.
Но не въ однѣхъ Аѳинахъ, на которыхъ мы останавливаемся, какъ на яркомъ фокусѣ греческаго свѣченія, — пробуждалась весенняя діонисическая жизнь. Анөестеріи засвидѣтельствованы въ многочисленныхъ мѣстностяхъ всего эллинскаго міра. Склоны малоазійскаго Тмола, обильнаго виноградниками, были мѣстомъ энтузіастическихъ сборищъ, радѣній, подобныхъ по ихъ экстазамъ зимнимъ тріэтеріямъ, но носившихъ характеръ радостно-упоенннаго оргіазма. Рядь изображеній на вазахъ, относящихся къ весеннимъ оргіямъ, представляетъ Діониса Дендритомъ, „древеснымъ“, растительнымъ божествомъ, осѣненнымъ распускающимися вѣтвями. То его цвѣтущій идолъ царитъ надъ
алтаремъ, на которомъ стоятъ сосуды, и мэнады смѣшиваютъ въ нихъ новое вино, тогда какъ другія, съ факелами, пляшутъ вдохновенную пляску, закидывая головы, замедленно-торжественными движеніями. То — на менѣе древнихъ изображеніяхъ — Діонисъ-юноша полулежитъ, окруженный пляшущими или священнодѣйствующими надъ сосудами вина мэнадами и скачущими сатирами. Діонисическія сцены на вазахъ безчисленны. Несмотря на дерзость древнѣйшихъ, можно сказать, что болѣе раннія придаютъ